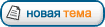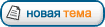|
Когда Императрица Екатерина II была в Херсоне, то ее сопровождал Суворов. Здесь неожиданно подошел к нему какой-то австрийский офицер без всяких знаков отличия. Это был Император Иосиф. Суворов говорил с ним, притворяясь, будто вовсе не знает, с кем говорит, и с улыбкою отвечал на вопрос его: "Знаете ли вы меня?" "Не смею сказать, что знаю, - и прибавил шепотом, - говорят, будто вы император Римский!" "Я доверчивее вас, - отвечал Иосиф, - и верю, что говорю с русским фельдмаршалом - как мне сказали".
Когда в Полтаве Императрица Екатерина II, довольная маневрами войск, спросила Суворова: "Чем мне наградить вас?" - он ответил: "Ничего не надобно, матушка, давай тем, кто просит. Ведь у тебя и таких попрошаек, чай, много?" Императрица настояла. "Если так, матушка, спаси и помилуй: прикажи отдать за квартиру моему хозяину, покою не дает, а заплатить нечем!" "А разве много?" - спросила Екатерина. "Много, матушка, - три рубля с полтиной!" - важно произнес Суворов. Впоследствии он, рассказывая об уплате за него долгов Императрицею, прибавлял: "Промотался! Хорошо, что матушка за меня платила, а то бы беда..."
Bcтретившись в Киеве в 1787 году с французским полковником Ламетом, Суворов подошел к нему, уставил на него глаза и спросил отрывисто: "Кто вы? Какого звания? Как ваше имя?" Ламет также поспешно ответил ему: "Француз, полковник, Александр Ламет". "Хорошо!" - сказал Суворов. Немного оскорбленный допросом, Ламет также быстро переспросил: "Кто вы? Какого звания? Как ваше имя?" "Русский, генерал, Суворов". "Хорошо!" - заключил Ламет. Затем они оба расхохотались и расстались приятелями.
Как-то Суворов был во дворце. К нему подошел один из не очень искусных генералов, который считал себя знатоком военного дела, и спросил: "Александр Васильевич, о вас говорят, что вы не знаете тактики". "Так - отвечал Суворов, - я не знаю тактики, но тактика меня знает. А вы не знаете ни тактики, ни практики".
Князь Н. В. Репнин отправил к Суворову с поздравлением своего любимца, майора. Суворов принял его чрезвычайно вежливо, но всячески старался уловить в немогузнайстве, да никак не мог. На вопросы: "сколько на небе звезд? сколько в реке рыб?" майор сыпал - "миллионы". Наконец Суворов спросил его: "какая разница между князем Николаем Васильевичем и мною?" Несмотря на затруднительный ответ, майор ответил: "Разница та, что князь Николай Васильевич Репнин желал бы произвести меня в полковники, но не может, а вашему сиятельству стоит лишь захотеть". Это Суворову понравилось, и он поздравил майора с этим чином.
В Польскую кампанию военные чиновники проиграли значительную сумму казенных денег. Когда Суворов о том узнал, то шумел, бросался из угла в угол, кричал: "караул! караул! воры!" Потом надел мундир, пошел на гаубвахту и, отдавая караульному офицеру свою шпагу, сказал: "Суворов арестован за похищение казенного интереса". Потом написал в Петербург, чтобы все его имение продать и деньги внести в казну, потому что он виноват и должен отвечать за мальчиков, за которыми худо смотрел. Но Екатерина велела тотчас все пополнить и написала Суворову: "Казна в сохранности". И он опять возложил на себя шпагу.
Как-то граф Кутайсов, бывший брадобрей Императора Павла, шел по коридору Зимнего дворца с Суворовым, который, увидя истопника, остановился и стал кланяться ему в пояс. "Что вы делаете, князь, - спросил Кутайсов, - это истопник". "Помилуй Бог, - сказал Суворов, - ты граф, а я князь. При милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, так надобно его задобрить".
Один генерал как-то заметил, что надлежало бы уменьшить число музыкантов и умножить ими ряды. "Нет, - отвечал Суворов, - музыка нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет шаг, с ней мы танцуем и на самом сражении. Старик с большею бодростью бросается на смерть. Молокосос, стирая со рта молоко маменьки, бежит за ним. Музыка удваивает, утраивает армию. С крестом в руке священника, с распущенными знаменами и с громо-гласной музыкой взял я Измаил!"
Суворов, как мы знаем, несмотря на то что любил простоту в одежде, являлся всегда во всех своих орденах. Раз так он был в церкви. По окончании службы одна великосветская барыня, желая над ним подшутить, заметила: "Ах, Александр Васильевич? Вы так слабы, а на вашей груди столько навещено. ... Я думаю, что вам тяжело". "Помилуй Бог, тяжело! Ох, как тяжело, вашим мужьям не сносить!" - заметил полководец.
Перед отправлением Суворова в Италию навестил его П. X. Обольянинов - любимец Императора Павла I - и застал его прыгающим через чемоданы и разные дорожные вещи. "Учусь прыгать" - сказал Суворов. "Ведь в Италию-то прыгнуть - ой, ой, велик прыжок, научиться надобно!"
Однажды к Суворову пришел важный гость. Суворов выбежал к нему навстречу, кланялся ему чуть не в ноги и бегал по комнате, крича: "Куда мне посадить такого великого и знатного человека! Прошка! стул, другой, третий". И при помощи Прошки Суворов ставил стулья один на другой и просил садиться выше. "Туда, туда, батюшка, а уже свалишься - не моя вина".
Однажды к Суворову во время его приезда в Петербург (после опалы) приехал в мундирах и орденах какой-то выслужившийся царедворец. Суворов спросил его имя, получив ответ, покачал головой и произнес: "Не слыхивал, не слыхивал". "Да за что вас так пожаловали?", - спросил он весьма важно. Смущенный царедворец не смел произнести слова "заслуга", бормотал что-то о "милости и угождении". "Прошка, - закричал Суворов своему камердинеру, - поди сюда, дурак, поди, учись мне угождать. Я тебя пожалую: видишь, как награждают тех, кто угождать умеет".
Еще с юного возраста Суворов любил выражаться коротко и ясно. В бытность свою рядовым солдатом он писал отцу: "Я здоров, служу и учусь. Суворов".
Подойдя к Варшаве и разбив поляков, он донес, подобно Цезарю: "Пришел, посмотрел и разбил!"
После взятия Праги он написал: "Прага взята, Варшаву отделяет от нас только река Висла".
После взятия Милана Суворову устроили триумф. Он был очень тронут и, взволнованный радостным чувством, умиленно воскликнул: "Бог помог! Слава Богу! рад... рад. Молитесь Богу больше".
Суворов терпеть не мог такие бумаги, в которых беспрестанно встречались ненавистные ему слова "предполагается", "может быть", "кажется" и пр. Однажды, получив такую бумагу, Суворов не мог дождаться, чтоб секретарь кончил чтение ее, вырвал ее и, бросив, сказал: "Знаешь ли, что это значит? Это школьники с учителем своим делают и повторяют опыты над гальванизмом. Все им "кажется", все они "предполагают", все для них "может быть". А гальванизма не знают и никогда не узнают. Нет, я не намерен такими гипотезами жертвовать жизнью храброй армии!" Затем, выбежав в другую комнату, он велел одному офицеру прочитать десять заповедей, который и исполнил это, не запинаясь. "Видишь ли, - сказал Суворов, обратясь к секретарю, - как премудры, кратки, ясны небесные Божия веления!"
Суворов беспрестанно повторял, что солдат и в мирное время "нa войне" и поэтому кроме обыкновенного воинского ученья он изобретал свои особенные "экзерциции", где можно было показать силу, ловкость и отвагу. Устраивая с полком различные учения, он желал показать солдатам примерный штурм. Будучи еще в чине полковника, Суворов командовал Астраханским полком, который располагался в Новой Ладоге. И вот однажды, идя с полком из Ладоги в Петербург мимо какого-то монастыря, в пылу воображения он составил план приступа, скомандовал "на штурм" и полк его бросился на монастырские стены. Солдаты взобрались на них с криком "ура". Суворов извинился перед испуганным настоятелем, что учил своих солдат.
Неизвестно по каким причинам Суворов не был однажды внесен в список действующих генералов. Это его весьма огорчило. Он приехал в Петербург, является к Императрице, бросается к ее ногам и лежит неподвижно. Императрица подает руку, чтобы его поднять. Он тотчас вспрыгнул, поцеловал Eе десницу, и воскликнул: "Кто теперь против меня? Сама Монархиня меня восстанавливает!" В тот же день было катание по Царскосельскому пруду на яликах. Суворов имел счастье быть гребцом Екатерины. Когда подъехал к берегу, то сделал из ялика такой отважный скачок, что Государыня испугалась. Он просил у нее извинения, что, считаясь инвалидом, возил Ея Величество "неисправно". "Нет! - отвечала Императрица, - кто делает такие прыжки, тот не инвалид". И в тот же день Суворов был внесен в военный список генералов, и получил начальство.
Однажды в простой солдатской куртке Суворов бежал по лагерю. "Эй, старик, постой! - закричал ему вслед сержант, присланный от генерала Дерфельдена с бумагами. - Скажи, где пристал главнокомандую-щий". "А черт его знает", - отвечал Суворов. "Как! - вскричал сержант, - я привез к нему от генерала бумаги". "Не отдавай, - закричал Суворов, - он теперь или мертвецки пьян, или горланит петухом". Тут сержант, замахнувшись на него палкой, сказал: "Моли Бога, старичишка, за свою старость: не хочу рук марать. Ты видно, не русский, что так ругаешь нашего отца и благодетеля!" Суворов "давай Бог ноги". Через час он пришел домой. Сержант уж был там. Увидев Суворова, он хотел броситься к его ногам, но главнокомандующий обнял его и сказал: "Ты доказал любовь к начальнику на деле: хотел поколотить меня за меня же". И из своих рук попотчевал его водкою.
Один генерал любил ходить в пучке, что было противно тогдашней форме. Суворов боялся, чтобы он не подвергся за это неприятностям, но, уважая его лета и службу, не имел духа ему запретить. Однажды в присутствии этого генерала Суворов сказал своему секретарю Фуксу: "Узнай под рукою, не кроется ли в пучке или под пучком что-нибудь важное?" Разными подобными шутками Суворов довел до того, что генерал начал носить косу.
Тючков (генерал-поручик и начальник Инженерного Департамента при Императрице Екатерине II), поздравлял Суворова с победами, но между прочим заметил, что он не присылает по своей обязанности карт и планов сражений в его Департамент. Суворов признался, что виноват, тотчас вынес большую карту Европы, свернутую в трубку, положил ее на плечо, как ружье, отдал ею честь к ноге, и положил к стопам Тючкова.
По невольной запальчивости Суворов сделал строгий выговор одному генералу, но вдруг, смягчив голос, продолжал: "Я говорил вам как раздраженный начальник, а теперь буду говорить как друг и отец. Я знаю все: вероломство и измена предали вас в руки неприятелей. Бог взыщет с них!.. Если можно, не вспоминайте о прошедшем".
Один полковник, рассуждая о предстоявших военных предприятиях, осмелился предложить фельдмаршалу план отдельных операций своего полка. "Воюй, полковник. Твой успех будет эпизодом в истории. Но план главнокомандующего есть история его жизни и славы всего его войска".
Один генерал любил говорить о газетах и постоянно повторял: "в газетах пишут", "по последним газетам" и т. д. Суворов на это выразил: "Жалок тот полководец, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, которые знать ему надобно, и о которых там не печатают".
Суворов получил от одного генерала просительное письмо об определении его в армию, написанное прекрасным, отличным слогом, так что этого нельзя было не заметить. "Да, хорошо написано, - сказал Суворов, - но мне нужны воины, а не дипломаты. Мой Багратион так не напишет, зато имеет присутствие духа, расторопность, отважность и счастье. Ум его образован более опытами, нежели теорией. В беседе его не увидишь, но он исполняет все мои приказы с точностью и успехом. Вот для меня и довольно".
В присутствии Суворова читали книгу, в которой было сказано, что один персидский шах, человек кроткого нрава, велел повесить двух своих журналистов за то, что они поместили напечатать в своих листках две неправды. "Как! - воскликнул Суворов, - только за две лжи? Если бы такой шах явился у нас, исчезли бы все господа европейские журналисты! Не сносить бы головы ни одному из них!"
Случился у Суворова спор о летах двух генералов. Одному было действительно пятьдесят лет, а другому сорок. Но Суворов начал уверять, что сорокалетний старее пятидесятилетнего. "Последний - говорил он, - большую часть жизни своей проспал, а первый работал на службе денно и нощно. Итог выходит, что сорокалетний чуть ли не вдвое старее пятидесятилетнего". "По этому расчету, - сказал маркиз Шателер, - Вашему Сиятельству давно уже минуло за сто лет". "Ах нет! - отвечал Суворов, - раскройте историю, и вы увидите меня там мальчишкой". "Истинно великие хотят всегда казаться малыми, но громкая труба молвы заглушает их скромность", - возразил Шателер. Суворов зажмурился, заткнул уши и убежал.
Некто вздумал назвать Суворова поэтом. "Нет! извини, - возразил он, - у поэта вдохновение, а я складываю только вирши".
Костров посвятил Суворову свой перевод Оссиана. Граф во всех походах имел его с собой и говорил: "Оссиан, мой спутник, меня воспламеняет. Я вижу Фингала, в тумане, на высокой скале сидящего, слышу слова его: "Оскар, одолевай силу в оружии, щади слабую руку". Честь и слава певцам! Они мужают нас и делают творцами общих благ".
Однажды в большой праздник пришел Кулибин к Потемкину и встретил там Суворова. Как только завидел Суворов Кулибина из другого конца залы, быстро подошел к нему, остановился в нескольких шагах, отвесил низкий поклон и сказал: "Вашей милости". Потом, подступив к Кулибину еще на шаг, поклонился еще ниже и сказал: "Вашей чести". Наконец, подойдя совсем близко к Кулибину, поклонился в пояс и прибавил: "Вашей премудрости мое почтение". Затем, взяв Кулибина за руку, он спросил его о здоровье и, обратясь ко всему собранию, проговорил: "Помилуй Бог, много ума! Он изобретет нам ковер-самолет!"
|