| Наша страница в Телеграме |
|---|
|
| Баннер с Имперским флагом для скачивания |
|---|
 |
|
Голод 1932-1933 годов
Низшая раса скоро погибнет совсем. Я не вижу для неё никакого спасения.
Смерть, на которую осуждены дети природы, вовсе не мучительная.
М. Нордау (Зюдфельд), идеолог сионизма
Одним из чудовищных преступлений большевизма являлся искусственно вызванный голод в России в 1932-1933 годах. Ответственность за этот геноцид несут все гроссмейстеры «ордена меченосцев» во главе с «отцом народов», но главным организатором голода был воинствующий русофоб Лазарь Моисеевич Каганович, воспетый в хвалебных стихах его соплеменника - пролетарского поэта Джека Алтаузена:
На широких донбасских просторах
Где пласты вековые бурят,
Распеваются песни, в которых
О наркоме стальном говорят.
Ходит слово о нём от камчатских снегов
До Абхазии, солнцем палимой.
Он - из племени сталинских гордых орлов,
Каганович - нарком наш любимый!
О Кагановиче, действительно, ходили слова в народе. Только говорилось в этих словах иное:
Каганович - самый подлый
Красный сталинский нарком
В 33-й год голодный
Украинцев ел живьём.
Целых восемь миллионов
Умертвил своих рабов,
Без попов. Крестов и звонов
Их зарыли, без гробов…
Опустел и край казачий,
Заросли травой поля,
Над станицей ворон крячет,
Зажурились тополя…
Всё забрали: плуг и скрыню.
Свиту, сало и плоды
Превратили край в пустыню
Комиссары и жиды.
(А.Дикий. Русско-еврейский диалог)
В 1933 году Каганович «возглавил созданный при ЦК ВКП (б) с-х отдел, активно руководя организацией Политотрядов МТС и совхозов. Как секретарь ЦК и заведующий с-х отделом в 1929-1934 годах Каганович непосредственно руководил... борьбой против организованного кулачеством саботажа государственных обязательств («Малая Советская энциклопедия т. 5. - М., 1937, с. 128). О методах его руководства красноречиво свидетельствует записка одного из уполномоченных Наркомзёма СССР «20 марта 1930 г. т. Каганович (ЦК ВКП (б)) прибыл в Козлов. На бюро окружкома т. Каганович дал нам установку следующую: нужно биться до конца сева за коллективный выезд в поле, антиколхозников исключать из колхозов, отрезать им землю в отдаленности, не давать кредита и т.д.» («Вопросы истории КПСС», 1962, №4, с.66)
Каганович самолично возглавлял кампанию по принудительному изъятию всех запасов хлеба у крестьянства, что и вызвало голод 30-х годов. 29 декабря 1932 года по инициативе Кагановича Политбюро ЦК КПУ(б) приняло директиву, в которой колхозам предписывалось сдать «все имеющееся зерно, в том числе и так называемые семенные фонды». Вывоз всех наличных фондов, включая семенные, предлагалось произвести немедленно, в течение пяти-шести дней. Всякая задержка рассматривалась как саботаж хлебозаготовок со всеми вытекающими последствиями… (История СССР, 1989, №2, с. 14)
Или ещё характерный пример, помогающий понять многое: на январском (1933) объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) один из его участников бросил реплику во время речи Кагановича:
- Но ведь у нас уже людей начали есть!
На что Каганович цинично ответил:
- Если мы дадим волю нервам, то есть будут нас с вами… Это будет лучше?
Добавить к этому каннибальскому откровению нечего. Хотя ещё на заре большевистской диктатуры Троцкий, принимая делегацию церковно-приходских советов Москвы в ответ на заявление профессора Кузнецова о том, что Москва буквально умирает от голода, заявил:
- Это не голод. Когда Тит брал Иерусалим, еврейские матери ели своих детей. Вот когда я заставлю ваших матерей есть своих детей, тогда вы сможете прийти и сказать: «Мы голодаем». («Циничное заявление». «Донские Ведомости». - Новочеркасск, 1919, №268)
В рассматриваемую эпоху Каганович «стал вторым человеком в партии», в связи с чем «даже многие письма и приветствия с мест начинались словами «товарищам Сталину и Кагановичу»… («Московские новости», 1988, №52, с.16). Каганович замещал Сталина во время его отпуска («Известия ЦК КПСС, 1989, №8, с.92). Можно добавить, что на конспиративной встрече «оппозиционеров» 12 января 1929 года Ю.Пятаков признал следующее: «Бухарин и Рыков ошибаются, считая, что они будут править вместо Сталина. К власти придут Кагановичи, а Кагановичам я не хочу и не буду подчиняться». (Политический собеседник, 1989, №9, с.34)
Как сообщал в мемуарах Н.С. Хрущев, «Сталин безусловно, выделял Кагановича и считал, что это человек, который правильно оценивает роль и заслуги Сталина. Каганович «был очень близкий к нему человек, и Сталин его за «классовое чутьё», за «классовую непримиримость» к врагам выставлял как эталон решительного человека».
Именно Каганович разработал предложение об организации целого ряда внесудебных органов, ставших орудием массового террора. В архиве сохранился проект этого документа, написанный его рукой.
По сведениям бывшего советского дипломата С.Дмитриевского, «одно время в Москве упорно говорили о том, что в Кагановиче Сталин готовит себе преемника». Что же касается самого Кагановича, то «многие говорят о нём: это второе издание Троцкого». И Каганович действительно был «вторым изданием Троцкого, его маленьким наследником, проводником его идей, покровителем его людей в новой обстановке. Так же как и Троцкий последнее время прикрылся именем Ленина и этикеткой ленинизма, так прикрылся Каганович именем Сталина и наклеечкой: сталинизм».
«По настроениям своим он был близок к Троцкому. И он вошёл в революционную партию… из ненависти не только к старому русскому строю, но и к русской нации… И идеи себе он усвоил примерно те же, что Троцкий», который «по-прежнему провозглашает интернациональную перманентную революцию – до полного уничтожения национального лица народов. По прежнему поборник идеи чистого «рабочего» государства, всё ещё видя единственную опору себе в денационализированных слоях городского пролетариата. По прежнему ненавидит и стремится уничтожить крестьянство - основу национальной жизни каждой страны». И «в числе проводников его идей одно из первых мест принадлежит Кагановичу». (Дмитриевский С. Советские портреты. - Берлин, 1932, с.145, 151-152, 154-155, 157)
Следует указать, что организация голода 1932-1933 годов была закономерным звеном в длинной цепи геноцида славянского населения страны. Задолго до столь оплакиваемого «детьми Арбата» 1937 года председатель Исполкома Коммунистического Интернационала Г. Зиновьев (Овсей Гершен Ааронович Радомышльский) прямо поставил задачу: «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить - их надо уничтожить». («Северная Коммуна», 19.09.1918)
Намеченная Зиновьевым контрольная цифра подлежащих уничтожению людей оказалась с лихвой перекрытой ещё до начала насильственной коллективизации деревни. Коллективизация и «раскулачивание», при проведении которых особенно отличились нарком земледелия Яков Аркадьевич Яковлев (Эпштейн) и председатель Колхозцентра Григорий Нехемьевич Каминский*, привели к гибели новых миллионов крестьян. На подавление многочисленных крестьянских восстаний по приказам обер-чекиста Генаха Гиршевича Ягоды (Иегуды) были брошены «солдаты ГПУ, подобранные один к одному, привыкшие к Гражданской войне, гвардия сегодняшгео строя. Выкатывались пулеметы, устанавливались пушки, развинчивались баллоны удушливого газа… И часто не у кого даже спросить, что было в таком селе? - нет села. Нет людей, которые в нём жили: ни женщин, ни детей, ни стариков. Снаряды и газ не щадят никого». (Дмитриевский С. Сталин. - Берлин, 1931, с.330)
Особенно страшному погрому и уничтожению подвергались казачьи станицы Дона, Кубани и Терека. Как писал бежавший на запад палач из НКВД А.Орлов (настоящее имя - Лейба Лазаревич Фельдбин), «Фриновский, начальник погранвойск ОГПУ, отвечающий за подавление восстаний и проведение карательных операций, докладывал на заседании Политбюро, что в реках Северного Кавказа плывут по течению сотни трупов - так велики были потери воинских подразделений. Соответственно этому и восстания были подавлены с невероятной жестокостью. Десятки тысяч крестьян были расстреляны без суда, сотни тысяч - отправлены в ссылку, в сибирские и казахстанские концлагеря, где их ждала медленная смерть». (Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. - М., 1991, с.42)
По воспоминаниям современника, казачьи семьи «сгоняли к железнодорожным станциям, где стояли заранее поданные эшелоны из товарных вагонов без воды, печей, уборных. По 70-100 человек загоняли в вагоны, закрывали на замки и пломбировали. Окна в вагонах были забиты досками и сверху обтянуты колючей проволокой. Эшелоны мчали несчастных казаков в Сибирь, на Дальний Восток. Кошмарный ужас творился в вагонах: холод, голод, плач детей и матерей, самоубийства, болезни и смерть. Оставшихся в живых выбросили в сибирском лесу и заставили строить бараки и землянки. Дети, женщины, старики без одежды и питания падали и умирали - как мухи. Утром можно было видеть целыми семьями повесившихся на деревьях людей». (Черкасов К. Генерал Кононов (ответ перед историей за одну попытку), т. 1. - Мельбурн, 1963, с.58-59)
Голод 1932-1933 годов и был специально организован, чтобы окончательно сломить активное и пассивное сопротивление крестьянства коллективизации. Этим-то и объясняется парадоксальный, на первый взгляд, факт, что границы голода совпали с границами хлебных житниц страны, всегда являвшимися районами сельскохозяйственного изобилия.

Русские люди, умершие от голода, устроенного большевиками
Как откровенно поведал член Политбюро ЦК КП(б)У Мендель Маркович Поштвич, «понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но мы выиграли».
И «голод и недоедание дали в руки кровавой комвласти новое и страшное оружие для её политической борьбы с неугодными или опасными частями населения. И власть человекообразных использует его беспощадно. Ясно видно направление ударов голодом со стороны организаторов голода. Это - казачье население Северного Кавказа, это - «социально опасные» группы во всём населении России. …Их обрекают на скорую и верную голодную смерть в тюрьмах, концентрационных лагерях, ссылках, во время долгих этапных путей. Так погибает лучшая, самая хозяйственная часть крестьянства и казачества и глубже подрывается сельское хозяйство. (Федоров А.В. Голод - знамя России. - Прага, 1933, №6, с.3-4)
Опираясь на карательные отряды ГПУ, специальные бригады самым беспощадным образом конфисковывали зерно у сельских жителей. В ряде случаев требовали сдачу количества зерна, превышающего фактический урожай… Это объясняли тем, что крестьяне имели обыкновение утаивать часть зерна, даже если соответствующей комиссией была перед этим проведена ревизия урожая и установлены средние для данного района цифры. Потребности питания для семьи, корма для скота и семенном материале при этом во внимание не принимались вовсе.
«…Людей спрашивали об одном и том же:
- Где спрятан хлеб?
…Кого подозревали в его сокрытии, запирали в «холодной» и шли громить усадьбу: рушили печи, взламывали полы и, если находили что-нибудь съестное, уносили без остатка». («Советская Россия», 1989, №115)
В результате сельское население вынуждено было употреблять в пищу древесную кору, мышей, сусликов, лягушек…
Начался голодный мор… «Тогда у нас с голоду умерли отец, 14-летний брат Вася и две сестрички-близняшки Катя и Дуня 1927 года рождения. Ели бурьян с водичкой. Трупы возами вывозили на кладбище. В одну яму по триста душ клали, - свидетельствует чудом выжившая крестьянка. («Собеседник», 1988, №49, с.12)
Или ещё одно свидетельство - секретное сообщение в Политбюро ЦК КП(б) У от 12 марта 1933 гола:
…с. Кочубеевка. В этом селе наиболее голодающих 214 человек, в большинстве единоличников. Умерло с января 48 человек.
…с. Городецкое. В этом селе наиболее голодающих колхозников - 76 дворов и единоличников - 83 двора. В большом количестве этих семей умерло от голода по одному-два человека.
… Лично посетил наиболее голодающие семьи:
1) Король Мария, 60 лет, один сын умер, старшая дочь варит кипяток, трое опухших детей на печи. Наличная пища - плитка суррогата из корнеплодов и палочка хрена;
2) Единоличник Король Фома, его жена и сын 14 лет недавно умерли от голода, осталась в живых только девочка 9 лет.
с. Озирино.
В этом селе наиболее голодающих 200 дворов, из них большинство единоличников. Умерло с 1 января по 10 марта 90 человек, а за весь 1932 год умерло 92 человека.
Лично посетил наиболее голодающие семьи:
1) Саражинская Пелагея, колхозница, дома её не было, на скамье лежит труп 12-летнего сына Степана, умершего три дня тому назад, возле печи сидят два ещё живых ребёнка 7-8 лет – истощенные и растирают полову для приготовления пищи. Здесь же от сопровождавших меня местных людей узнал, что в настоящее время в селе лежат непохороненных 15 трупов…
…с. Малая Вильшанка. В этом селе голодающих 700 человек, из них половина единоличников. Умерло с 1 января по 10 марта 86 человек, а за весь 1932 год умерло 73 человека». («Под знаменем ленинизма». Киев, 1990, № 8, с.78-79)
Были села, где погибло от 25 до 50 процентов населения. Были села, вымершие почти полностью.
Голодающие пытались найти спасение в городах. Но и там их настигал беспощадный царь-голод. Как сообщали иностранные дипломаты, в городах Украины «повсюду можно было видеть истощенных людей, многие умирают прямо на улице», «не привлекая особого внимания привыкших уже к этому горожан». («За рубежом», 1989, №12, с.18)

Крестьяне «пробирались к мусорным ящикам и оттуда выгребали пищевые отбросы. Эти обессилившие люди назывались … полным больной иронии термином - «санитарная комиссия». И обычно члены этих «санитарных комиссий», добравшись до далекого от изобилия мусорного ящика, уже не отходили от него живыми. Отвыкшие от пищи желудки не выдерживали качества объедков и отбросов.
Их тела-скелеты обычно по несколько дней лежали по дворам, пока не появлялась подвода и не увозила их в братскую яму. Из человеческих костей строился «фундамент здания социализма…». (Солоневич Б. Молодежь и ГПУ. Жизнь и борьба советской молодежи. - София, 1937, с.416)
По утрам дворники должны были осмотреть все закоулки и дворы. Если находили трупы – приезжал специальный грузовик и вывозил их, как обычно вывозили мусор. Случалось, что в вырытые на кладбищах братские могилы бросали ещё живых людей… В спецзаписке руководству КП(б)У от 14 марта 1933 года отмечалось, что «в городах массовое нищенство и беспризорность. Голодает значительное количество рабочих. (…) По Киеву на улицах подобрано трупов: январь - 400, февраль - 518, за 10 дней марта - 248».
Сохранились фотографии умерших от голода, их, в частности, тайно делала жена немецкого консула в Харькове. Подобные фотодокументы были опубликованы в 30-х годах только в зарубежной печати. В СССР тогдашним руководством официально голод вообще отрицался, и любое сообщение о нём были запрещены. Голодающим не оказывалось никакой помощи, возле больших городов их безжалостно вылавливали «заградительные отряды» и возвращали туда, где царил голод…
Вот один лишь пример зверской расправы со спасавшимися от голодной гибели людьми:
«Кругом было горе, умирал народ. Так попали мы на Кавказ. Между Сочи и Сухумом собралось на тысяч пятнадцать. Все с Украины и Кубани. Жили мы в тоннелях, что ещё при царе вырубили, когда думали строить дорогу. Днем выходили. Кто работы искал, кто просил подаяние… Гнали нас все, били, ругали. Начальники разные приезжали, требовали, чтобы ушли мы. Да куда голодный пойдёт. Тут всё-таки не умирали. Раз под вечер… появились верховые, за ними ещё люди, и все к туннелям. Поднялись мы, подошли ближе, притаились за скалами… (…) Страшно сказать, что видел, а тут думать нельзя, что было это. Ведь зашили они в ту ночь все туннели досками и камнями привалили. Что стону, что крику было. Ведь нелегко человеку помирать.
Пошли мы со старухой без оглядки в Сухум, а по дороге все эти туннели. Посты стоят, а оттуда Христа ради просят выпустить.
В Сухуме дознались, что окаянного, что приказал так сделать, Нестором Лакобой кличут. Он там, в Абхазии, как у нас Сталин. Говорили люди, что его друг и приятель».
(Волохов М. Из записок советского адвоката. - Париж, «Возрождение», 1952, №19, с.134-135)
Коммунистическими властями категорически отвергалась и иностранная продовольственная помощь: когда подобное предложение последовало от США, советский нарком иностранных дел М. Литвинов (Меер-Генрох Мовшевич Валлах) заявил 13 января 1934 года в специальном письме, что никакого голода нет, а все сведения о нём - инсинуации.
…Наоборот, и в это время эшелоны с хлебом шли к зарубежным покупателям через станции, забитые умирающими от голода украинскими и русскими крестьянами: так в 1931 году было вывезено 5,2 миллиона тонн, в 1932 году - ещё 1,8 миллиона тонн.
Страшным следствием голода стало людоедство: обезумевшие люди теряли человеческий облик, буквально охотились друг за другом, особенно, за детьми…
В уже цитировавшемся сообщении от 12 марта 1933 года отмечалось:
«К настоящему времени поданным РПК и ГПУ, по Уманскому району имеем 9 случаев людоедства и по Белоцерковскому району 13 случаев людоедства.
В ГПУ имел беседу с людоедами, которые спокойно, тупо и цинично излагали истории дикого преступления голода.
… Людоеды, которых я видел и беседовал… производят впечатление зверино-голодных людей, у которых нет никаких желаний, кроме единственного желания - что угодно и какой угодно ценой кушать».
Вот свидетельство ещё одного очевидца тех трагических событий:
- Я зашёл в одну из хат и окаменел. У самой стены на деревянной лавке лежал почти высохший ребёнок лет пяти-шести, над ним склонилась мать, держа в руке нож, и с трудом старалась отрезать ему голову. Нож и руки были в крови, ребёнок конвульсивно дёргал ногами. (…) На миг я уловил её взгляд, она смотрела на меня, но вряд ли видела, её глаза были сухие, лишены всякого блеска и напоминали глаза мертвеца, которому ещё не закрыли веки. (…) Через час мы зашли в эту хату, чтобы зафиксировать и этот случай людоедства, но увидели уже упомянутую женщину на земляном полу вверх лицом с открытыми мёртвыми глазами… К груди она прижимала отрезанную голову ребёнка».
И такие случае были «в селе не единичны». («Аргументы и факты», 1988, №32, с.6)
Жесточайший голод свирепствовал и на Дону. По воспоминаниям современника голодающие «стали умирать сотнями и тысячами. (…) Как только началась весна, выжившие голодающие стали пухнуть. Это - страшная картина. Это были пухлые трупы людей с кровоточащими ногами, с полусумасшедшим взглядом и с протянутой рукой, просящей хлеба. (…) Когда весной пригрело солнце и стаял снег, то … вдоль кладбищенского забора с внутренней стороны лежали горы трупов. У людей не было ни средств, ни сил хоронить своих родных». (Черкасов К. Указ. соч., с.12-13)
То же происходило и на Кубани: «Там престрашный голод, люди людей едят, много и много мрут, а остальные идут, отрезают из них мясо и едят. (…) А мрут так, что где идёт, там и упал и умер; ховать некому и валяется до сих пор, пока там же где не сгниёт и только кости валяются, как было с лошадьми, а теперь и народом». («Кавказский казак» (Белград), 1933, №3, с.6)
Очевидцы рассказывали:
«Голод всё увеличивался. Умирали пачками. (…) Было много случаев отравления, так как люди ходили собирать по берегу гнилую рыбу. Опухших с голода в больницу не принимали. Было запрещено писать в газетах, что люди умирают от голода. Хоронить не успевали. Дежурные подводы объезжали станицы и собирали трупы». («Кавказский казак», 1934, №5, с.9)
И от голода умирали часто, и никто не удивлялся. Опухшие люди искали хоть чего-нибудь поесть. Если не находили, падали от бессилия на дороге, под забором. Немного постонав, умирали. Их увозили на кладбище в «братские могилы» (ямы). Те, кому удавалось что-то поесть из зерна, тоже нередко умирали, так как протравленное формалином зерно вызывало заворот кишок». («Советская Кубань», 1988, №270)
В донесениях политотделов МТС сообщалось: в зоне действия политотдела Гражданской МТС в марте 1933 года «продовольственное положение остаётся напряжённым, случаи смертности от недоедания и голода не прекращаются; в зоне политотдела Черноерковской МТС зафиксировано «поголовное опухание, ежедневные смерти до 150 человек в одной станице и больше»; в Ейской МТС «состояние людей в январе 1933 года было жутким. За январь-апрель по ряду колхозов умерло от 365 до 290 человек. Итого по 4 колхозам свыше 1000 человек… был ряд случаев трупоедства и людоедства своих близких и родных»; в Пластуновской МТС «весной 1933 года 1300 человек умерло…» (История СССР, 1989, №3, с.51)
Василий Витальевич Шульгин рассказывал, что один врач, выехав из Ахтарско-Приморской станицы, что на Азовском море, «в течение многих часов ехал на автомобиле, направляясь к северу. Машина шла по дороге, заросшей высокой травой, потому что давно уже никто тут не ездил. Улицы сёл и деревень заросли бурьяном в рост человека. Проезжие не обнаружили в сёлах ни одного живого существа: в хатах лежали скелеты и черепа, нигде ни людей, ни животных, ни птиц, ни кошки, ни собаки. Всё погибло от интегрального голода». (Шульгин В.В. Дни. 1920. - М., 1989, с.71)
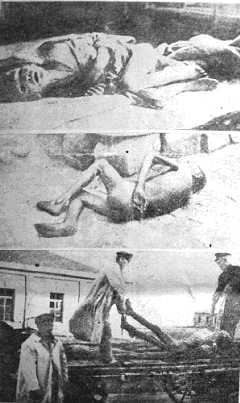
Умирающие Русские дети. На нижнем фото: подводами умерших детишек отвозят для захоронения в общую яму. Как скот
Вновь, как в 1921-1922 годах, лютый голод охватил Поволжье. «В тридцать третьем году всю поели лебеду. Руки-ноги опухали, умирали на ходу», - пелось в невесёлой частушке об этой народной трагедии. Вымерли целые селения. «В войну не погибло столько в этих деревнях, сколько погибло во время голода», - говорят старожилы. («История СССР», 1991, №6, с.178)
Необходимо отметить, что крестьяне, особенно, казаки, как могли, оказывали посильное сопротивление геноциду. Они вовсе не походили на то безвольное стадо, которое изображено в расистских виршах Е.Евтушенко (Гангнуса) «Русские коалы»… Так, сохранилось свидетельство, что в сентябре 1932 года, закопав зерно в землю, казак Самбуровской станицы Северо-Донского округа Бурухин, когда ночью пришли хлебозаготовители, «вышел на крыльцо в полной парадной казачьей форме, при медалях и крестах и сказал:
- Не видать советской власти хлеба от честного казака!
А его сын ударил топором по голове «активиста-наводчика».
(На штурм трассы (Дмитров), 1936, экстренный выпуск, с.10)
В конце ноября 1932 года восстали жители станицы Тихорецкой на Кубани, мужественно отражавшие атаки вооружённых до зубов карателей, «пустивших в ход артиллерию, танки и даже газы…».
«Несмотря на недостаток оружия, численное превосходство неприятеля, на большое число раненых и убитых, и недостачу продовольствия и военных припасов, восставшие держались в общем двенадцать дней и только на тринадцатый день бой по всей линии прекратился. (…)
Расправа началась в первый же день после отступления от Тихорецкой повстанцев. Расстреляны были все без исключения пленные, захваченные в боях.
… Началась расправа с мирным населением. Расстреливали ночью и днём всех, против кого были малейшие подозрения в симпатии к восставшим. Не было пощады никому, ни детям, ни старикам, женщинам, ни даже больным». («Кавказский казак», 1932, №12, с.6)
Один из уцелевших повстанцев сообщал в тайно переправленном за границу письме (сохранена орфография подлинника):
«Совершилось великое зло. У нас на Кубани пролылы кровь еще один раз. Наши козакы котори одалы свои головы на олтар отечества, хотя ни сами козакы, а и другi чесни рускы люди православни но всме програно. Царство небесное погибшим… То был не бой, а старинная битва с неравными полчищами китайцев, курсантами кацапами, жидами и прямо из настоящими чортами у которых нет ни совисти ни жалости ни мылости, котори убивалы стариков, старух, и жен, и детей… Ну и мы ж им давалы, будут довго знать що то козакы, котори умиралы и песни спивалы и нычуть смерти ны боялись. Вот где было братство дисциплина и любовь и отвага… Тут булы батьки и сыны, тут булы парубки и дивкы, тут булы учитыля и попы… И уси козакы що с казакамы и умирать нистрашно, и умирали как святые мученики када то за православну. Веру и нычым нас ни могли одолить. Они з ружамы, а мы в большинстве з дрючками и так дiло було пiшло добре. А як прийшлы из газами и газы нас убылы и победылы. Ну хотя нас и разбылы и роизгналы и по розвозылы як котiв у Сибирь, и поверь куманек раненых живыми у ямы закопувалы. Таке було зверство, шо опысаты нельзя». («Кавказский казак», 1933, №1, с.15-16)
На Северном Кавказе вновь повторилась трагедия расказачивания 1919 года, когда злейший враг Русского народа председатель ВЦИК Я. Свердлов (Янкель Мовшевич Гаухман) издал чудовищную директиву, в которой говорилось:
«Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно: провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. (…) Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. (…) провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. (…) Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твёрдость и неуклонно проводить настоящие указания… Провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему переселению бедноты на казачьи земли». («Известия ЦК КПСС», 1989, №6, с.178)
По сообщению современника, проводниками свердловской директивы на Дону стали «бывшие правые эсеры, и бундовцы... причём часто этими элементами инструкция о терроре понималась как полное уничтожение казачества», а руководящим принципом служило: «чем больше вырежем казачья, тем скорее утвердится Советская власть на Дону» (Венков А. Печать сурового исхода. - Ростов-на-Дону, 1988, с.76).
Так в станице Урюпинской «во главе продотдела стоял некто Голдин*, его взгляд на казаков был такой:
- Надо всех казаков вырезать! И заселить Донскую область пришлым элементом.
Ревкомовцы врывались в дома, требовали хлеб, скот, масло, яйца… Отбирали даже стельных коров на убой… (…) А расстрелы были ужасные. Иногда без суда… («Молодая Гвардия», 1989, №10, с.232-233).
В газетах помещались расистские статейки, что имеется большое сходство между психологией казачества и психологией некоторых представителей зоологического мира… Как заявлял Л. Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн), «на всех языках мира слово «казак» произносится одинаково и всюду означает: насилие и произвол. (…) Нужно расказачить казачество («В пути. Известия поезда Предреввоенсовета Троцкого», 1919, №45).
Осуществляя преступную политику «расказачивания» на практике, Н.Э. Якир (тот самый - будущая «жертва сталинизма») прямо требовал «процентного уничтожения мужского населения» казачьих станиц. («Кубань», 1988, №11, с.80)
На 7 съезде РКП (б) в марте 1919 года руководитель большевистского Донбюро Арон Авраамович Френкель (ещё одна «жертва сталинизма») заявил, что «необходима экспроприация казачества и массовое переселение их вглубь России с вселением на их место пришлых трудовых элементов. Это лучшим способом растворит казачество».
В утверждённой ЦК РКП(б) резолюции Донбюро предусматривалось «полное, быстрое, решительное уничтожение казачества как особой экономической группы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего чиновничества и офицерства, вообще всех верхов казачества, активно контрреволюционных, распыление и обезвреживание рядового казачества и «формальная ликвидация казачества». Также «необходимо широко провести вывод казаков за пределы области…». (Венков А. Указ.соч., с.107, 124-125)
Троцкист Г.Сокольников (Гирш Янкелевич Бриллиант) предлагал использовать казаков для общественных работ в угольных районах, для постройки железных дорог, разработки сланца и торфа. Для этой цели он телеграфно просил «немедленно приступить постройке оборудования концентрационных лагерей». («Правда», 1990, №138)
А по ветхозаветному кровожадный член Донского ревкома Исаак Исаевич Рейнгольд (тоже «жертва сталинизма») деловито рапортовал своим соплеменникам в ЦК РКП (б):
«…Почувствовав себя победителями, мы бросили вызов казакам, начав их массовое физическое истребление. Бесспорно принципиальный наш взгляд на казаков, как на элемент, чуждый коммунизму и советской идее, правилен. Казаков, по крайней мере, огромную их часть, надо будет рано или поздно истребить, просто уничтожить физически…». («Родина», 1998, №3, с.77)

По дороге на кладбище: трупики Русских детишек на санях
Политика расказачивания активно осуществлялась и на Тереке. Ещё в 1918 году Совнарком т.н. «Терской советской республики» (одним из тамошних наркомов был брат жены Кирова Янкель Львович Маркус) принял постановление о выселении Терских казаков из станиц Сунженской линии и передачи их земли горцам. Как указывал Г.Орджоникидзе, «станицы, как например, Тарская и Сунженская, должны быть освобождены от казаков и предоставлены ингушам». Тогда это осуществить не удалось. Но после окончания Гражданской войны «Орджоникидзе смело продолжил мероприятие начатое им в 1918 году: выселение казачьих станиц…» (Разгон И. «Орджоникидзе и Киров, и борьба за власть Советов на Северном Кавказе 1917-1920 г.г. - М., 1941, с.323). Он заявил: «Мы определённо решили выселить 18 станиц с 60-тысячным населением по ту сторону Терека…». В результате «станицы Сунженская, Тарская, Фельдмаршальская, Романовская, Ермоловская и другие были освобождены от казаков и переданы горцам - ингушам и чеченцам». (Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи, т.1. - М., 1956, с. 76. 131, 193)
Как происходило это «освобождение от казаков» видно из свидетельства современницы:
«Нашу станицу разделили на три категории. «Белые» - мужской пол был расстрелян, а женщины и дети рассеяны, где и как могли спасаться. Вторая категория – «красные» - были выселены, но не тронуты. И третья - «коммунисты». Включенным в первую категорию никому ничего не давали, «красным» давали на семью одну подводу, на которую можно было брать всё, что желали, а «коммунисты» имели право забрать всё движимое имущество.
Дворы всей станицы поступили чеченцам и ингушам, которые и задрались на наше добро между собою». («Дон», 1990, №7, с.68)
О приверженности к кровавым традициям «расказачивания» заявил в 1932 году на Кубани Каганович:
«Надо, чтобы все кубанские казаки знали, как в 1921 году терских казаков перестреляли, которые сопротивлялись Советской власти. Так и сейчас… А вам не нравится здесь работать, мы переселим вас. Могут сказать, как же это переселите, - это беззаконность. Нет, это законность». (История СССР,
Дата публикации: 14.04.2007
Прочитано: 3256 раз |
|
Дополнительно на данную тему
|
|
|
| Православный календарь на одной странице |
|---|
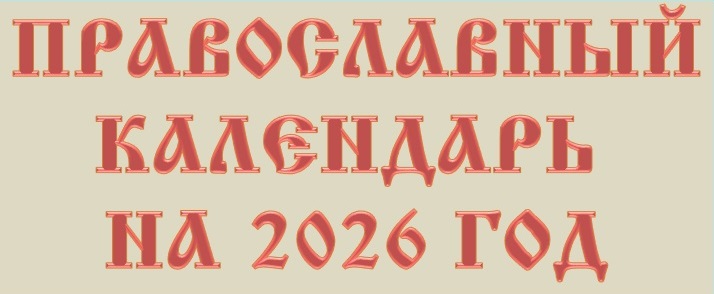 |
|