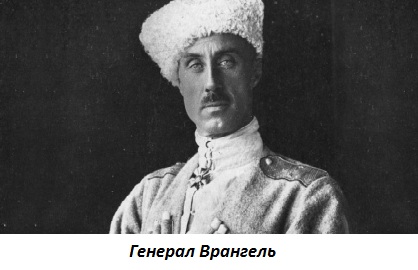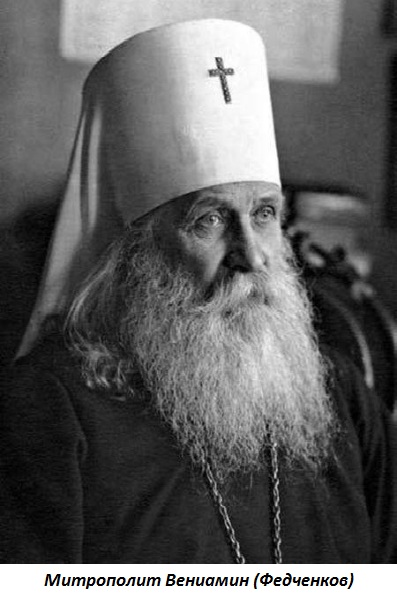|
Митрополит Вениамин (Федченков)
Генерал Врангель
(глава из книги "На рубеже двух эпох")
Я озаглавливаю эту главу именем одного человека потому, что он был действительно центральною личностью, воодушевлявшей «белое движение» под его управлением. Был до него генерал Деникин, но то время, гораздо более продолжительное, не было окрашено его именем. Говорили: «деникинцы», «белые», «кадеты», но редко «генерал Деникин». А здесь про все движение обычно говорилось кратко: «генерал Врангель» или, ещё проще, «Врангель».
До отречения от власти Деникина, Врангель жил в Константинополе. В приказе об избрании ему преемника бывший главнокомандующий Вооруженными силами юга России сам указал и имя генерала Врангеля, который должен был возвратиться на выборы из ссылки. Англичане дали миноносец, но была такая качка, что сердцу Врангеля грозила опасность, и миноносец вернули обратно, а повезли его в Крым на крейсере или дредноуте. То был конец Великого поста, за неделю до Пасхи 1920 года.
К этому времени Белая армия поерпела полное крушение, и остатки ее в несколько десятков тысяч человек кое-как перебрались на
Крымский полуостров. От огромнейших пространств, занятых белыми, остался теперь только маленький квадрат Крыма по двести
вёрст в длину и ширину.
Казалось бессмыслицей продолжать проигранную борьбу, а её решили опять возобновить. И мало того, ещё надеялись на победу.
Мечтали, и среди таких наивных был и я, о Кремле, о златоглавой Москве, о пасхальном трезвоне колоколов Первопрестольной. Смешно сейчас и детски наивно. Но так было. На что же надеялись?
Оглядываясь теперь, двадцать три года спустя, я должен сказать – непонятно! Это было не только неразумно, а почти безумно. Но люди
тогда не рассуждали, а жили порывами сердца. Сердце же требовало борьбы за Русь, буквально «до последней пяди земли». И ещё надеялись на какое-то чудо: а вдруг да всё повернется в нашу сторону?! Иные же жили в блаженном неведении – у нас ещё нет большевиков, а где-то там они далеко. Ну, поживем – увидим. Небось?.. Были и благоразумные. Но история их ещё не слушала: не изжит был до конца пафос борьбы. Да и уж очень не хотелось уходить с родной земли. И куда уходить? Сзади – Черное море, за
ним – чужая Турция, чужая незнакомая Европа. Итак, попробуем еще раз! А может быть, что и выйдет? Ведь начиналось же «белое
движение» с 50 человек, без всякой земли, без денег, без оружия, а расползлось потом почти на всю Русскую землю. Да уж очень не хотелось уступать Родину «космополитам-интернационалистам», «евреям» (так было принято думать и говорить про всех комиссаров), социалистам, безбожникам, богоборцам, цареубийцам, чекистам, черни. Ну, пусть и погибнем, а всё же – за родную землю, за «единую, великую, неделимую Россию». За неё и смерть красна! Вспомнилось и крылатое слово Лавра Корнилова, когда ему задали вопрос:
- А если не удастся?
- Если нужно, – ответил он, – мы покажем, как должна умереть Русская армия!
В это время большевики ушли из Крыма, после моего ареста и освобождения. Но я совершенно искренно могу сказать, что и тогда, и после «чрезвычайка» не имела ни малейшего влияния на моё решение. Не только не было мысли о мести красным, но я даже считал, что они были правы, подозревая в контрреволюции и посадив меня в «чеку». И только совесть всё тревожила и толкала душу: ты должен что-нибудь делать!
Всякому понятно, что я встал на сторону белых, а не красных. Всё белое было мне знакомым, своим прошлым, а главное религиозным. Прошло ещё с полгода, пришёл к власти генерал Врангель, и он сам просил меня возглавить духовенство армии и флота Русской армии. Моё желание сбылось: я вошёл активным членом в белую семью героев. Я тоже не думал о конце или победах, как и другие, а шёл на голос совести и долга. И в этом душевном решении не раскаиваюсь и теперь. Пусть это было даже практической ошибкой, но нравственно я поступил по совести. И мне тут не в чем каяться.
Подобным образом, вероятно, и даже много лучше, чувствовали и рассуждали вожди и прочие добровольцы. Потом в армию влились
уже и политические противники коммунистов, и насильно мобилизованные крестьяне, и обозленные корыстные защитники старых привилегий, и просто охотники, каких немало бывает во время революций.
Тем временем собрание генералов согласилось на условия Врангеля, и он стал главнокомандующим.
Главнокомандующий пожелал, чтобы на место возглавителя духовенства армии и флота вступил я. До меня эту должность исполнял
ещё бывший при царе военный протопресвитер отец Г.И.Шавельский, который к этому времени успел уже разочароваться в успехах движения и высоком уровне добровольцев, и его необходимо было заменить иным лицом, с верою в лучшее будущее.
Наш архиерейский Синод согласился на желание генерала и назначил меня епископом армии и флота. Это был первый случай за 220 лет (со времени Петра I), что во главе духовенства стал архиерей. Государственные военные власти прежде не хотели этого потому, что с протоиереем легче было обходиться, чем с архиереем. Тут сказался и дух господства государства над Церковью. Но избрание меня архиереем армии и флота тоже не означало улучшения церковных воззрений теперешнего правительства. Это было личным делом главнокомандующего, по личной симпатии ко мне. Важно отчасти было и то, что я пользовался любовью севастопольцев, а это весьма нужно было и для военного дела. Так судьба меня поставила очень близко к самому центру «белого движения» в последний период его.
Потом, как я уже отметил, я был избран представителем от Церкви и в совет министров. Моё положение там было особое: я, когда это было нужно, высказывал мнение Церкви, не будучи обязан даже голосовать с прочими министрами. Председателем совета министров был потом Кривошеин, бывший министр земледелия при царском правительстве.
Обычно в военной среде офицеры называли полковых священников фамильярным именем «батя»: «Ну, как, батя, дела?» Или во время игры
в карты: «Эй, батя, ходи». В лучшем случае, если священник держал себя независимо, относились к нему корректно, но холодно. И таких не любили. Я совсем не думаю осуждать офицерство за такую вольность. Осуждать людей - самое неумное занятие, будто бы на их месте мы были бы лучше. Всему в истории есть свои глубокие длительные причины. И офицерские привычки не со вчерашнего дня появились, нужны были два столетия со времён Петра, чтобы они воспитались и укрепились. Но к чести офицеров нужно сказать, что они очень редко были безбожниками, хотя это было скорее доброй традицией и законом военного достоинства, атеисты - это революционеры, социалисты...
После Пасхи я выехал на фронт. Мне для этого был дан специальный вагон маленького размера, которым я мог пользоваться в любое
время, стоило лишь сказать по телефону начальнику станции Севастополь, и его прицепляли к нужному поезду. И это радовало меня и
моего секретаря - отдельный вагон. Боже, какие мы дети и в сорок лет! А ещё думали сломать ход истории. Приехал я, с пересадкой на лошадях, к Перекопскому валу. Был вечер. Я посетил штаб Корниловской дивизии, командиром которой был высокий отчаянный молодой генерал Туркул. Походил по избам близлежащей деревушки (имя её позабыл), разговаривал с солдатами, а особенно с офицерами. И сразу я был поражён духом добровольцев. Да, это были действительно отчаянные герои! Да, они любили Россию и безумно складывали за неё свои буйные головы! Да, я могу представить их в так называемой психологической атаке, когда они шли церемониальным маршем, без единого выстрела, против вдесятеро сильнейшего неприятеля, который терял мужество перед бесстрашием офицеров и иногда бежал в панике от них!
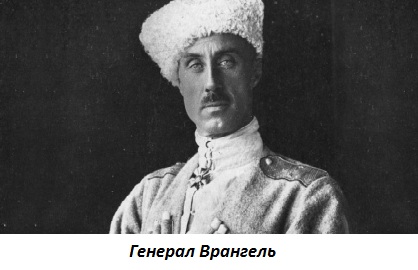
И на этот раз они говорили о своей бесстрашной решимости. Один полковник, командир танка, совершенно спокойно рассказывал, что
был ранен уже четырнадцать раз, а завтра выйдет на сражение первым. И улыбался, куря. Он был почти уверен, что погибнет. Действительно, после я узнал, что в его танк попал снаряд, и он с другом сгорел в нём. И такие герои были почти везде!
Но он в этот же вечер, накануне смерти, совершенно открыто, почти цинично, насмешливо заявил мне, что ничуть не верит в
Бога. Бывшие тут с ним другие офицеры нимало не смутились его заявлению, будто и они так же думали.
Я, по-новости, пришёл в ужас. Тогда чем же они отличаются от безбожников большевиков? Выхожу на улицу. Встречается в военной форме солдат - мальчик лет 13–14. Были и такие. С кем-то отчаянно грубо разговаривает. И я слышу, как он самой площадной
матерной бранью ругает и Бога, и Божию Матерь, и всех святых! Я ушам своим не верю. Добровольцы, белые - и такое богохульство!
После, когда наша армия заняла северную часть Таврической губернии, я невдалеке от фронта, под прекрасным зелёным бугорком сидел с одним весьма благочестивым офицером с чистой бородкой золотистого цвета. Мы, конечно, говорили о том, что же будет?
И вдруг он сказал такую фразу, я запомнил ее точно: «Где же нам, маленьким бесенятам, победить больших бесов - большевиков?»
И это сказано было не для красного словца, а спокойно, с глазу на глаз.
Сам Врангель в приказах твердил, что «святое дело нужно делать чистыми руками». Значит, была же нечисть!
Везде матерная брань висела в воздухе. Несколько позже я обратился к главнокомандующему с настойчивой просьбой принять решительные меры против этой разлагающей гнусности.
- Хорошо! Заготовьте об этом приказ по армии от моего имени.
Я поручил написать проект моему помощнику по флоту, протоирею о. Г. Спасскому, человеку талантливому и давно знавшему военную среду. Приказ был написан сильно и коротко. Последние две строчки приблизительно говорили: «И пусть старшие показывают добрый пример младшим в решительном искоренении этого ужасного обычая!»
Понёс его генералу. Прочитал, согласился.
- Только вот, - говорит, - не лучше ли выпустить последние строчки?
- Почему? - возражаю, - ведь это же правда, что и они ругаются похабно?
- Да! Но неудобно в приказе говорить это о командирах, подорвётся дисциплина.
- Хорошо, выпустите. Он зачеркнул эти строки. Осталось ему отдать в печать и распространить по армии. Жду неделю, другую. Нет моего приказа. Иду к председателю совета министров А.В. Кривошеину.
- В чём дело? Почему нет приказа против матерщины?
- Провалили наш проект.
- Как провалили? Кто?
- Генералы! - был короткий ответ.
У меня даже захолодело в душе. Генералы говорили, будто бы без этой приправы не так хорошо слушают солдаты их приказания. Да и привычка въелась глубоко в сердце и речь. Одним словом, провалили. И будь же тому, что вскорости после этого, не знаю как, по радио, что ли, дошли до нас слухи, будто Троцкий издал строжайший приказ по Красной армии - вывести беспощадно матерщину!
Такое тяжелое впечатление получил я от первого знакомства с нашей армией. И только одно светлое воспоминание унёс я от Перекопа
- ту группочку безусых розовых мальчиков, которые у тлеющего костра спрашивали меня ночью:
- А что? Мы победим? Ведь мы за Бога и родину.
Когда я вернулся с фронта, то доложил нашему Синоду, а потом и генералу Врангелю буквально так:
- Наша армия героична, но она некрещеная! Вывод, в сущности, ужасный.
Что делать? Синод, архиереи - мы были бессильны и совершенно неавторитетны в глазах военных.
- Э-эх! Ну, что там говорят попы! - сказали бы нам в ответ. - Одной бесплодной проповедью больше, и только!
Авторитет тогда имел лишь Врангель, его любили, ему верили, его боялись. Разложение духа было уже глубокое. Так мой наивный
вопль замер в воздухе и после этого первого доклада, а потом и в случае с бранью. Через несколько месяцев я подведу итог и письменно доложу о нём совету министров. Но будет уже поздно. А точнее сказать, было ещё слишком рано.
Что это? Отдельные ли незначительные случаи? Или вырисовывалась уже общая картина? Мне бы хотелось верить первому, хотелось
верить в чистоту белых риз. А иначе на что мне надеяться? Сил военных - горсточка, всего 15–20 тысяч! Что это такое перед миллионами Советской страны? Да ещё после страшных поражений и бегства добровольцев со всех фронтов, когда авторитет и страх перед белыми пропал? Невольно начинало закрадываться в душу сомнение: не конец ли приходит? Не последняя ли страница пишется белыми?
Этот итог и пришлось мне, уже в июле, выслушать в откровенной форме от писателя Ивана Александровича Родионова. Имя этого
человека не всем известно, а между тем от него осталась поразительно сильная книга, изданная около 1907-1908 годов, «Наше преступление». Казак родом, он имел поместье в Псковской губернии и описал нравы местных крестьян. Там есть такие потрясающие картины морального разложения и совершенно невероятных форм богохульства крестьян, что я, читая лекции в Петербургской академии, для характеристики современной нашей паствы не мог пред взрослыми студентами цитировать некоторые страницы с кощунствами. А то была фотография с подлинных фактов.
Родионов говорил, что это наше интеллигентское преступление, мы внушали народу безбожие и прочее!
После он написал ещё книгу «Жертвы вечерние», как дети-кадеты в Белой армии отвечали своими поздними жертвами за ранние грехи своих отцов. И ещё написал стихи про Москву белокаменную.
Генерал Врангель вызвал его из Турции, предложил ему стать во главе печатного дела. Он отказался. По прежнему ещё знакомству, с 1906-1907 годов, по делу Распутина, он зашел ко мне с визитом. Я угостил его обедом. С жалостью спрашиваю, почему отказался.
- Видите, - ответил он, - чтобы победить большевиков, нужно одно из двух: или мы должны задавить их числом, или же духовно покорить своей святостью. Ещё лучше бы и то, и другое. Вы здесь хоть и благочестивы, но не святы. Ну, а о количестве и говорить не приходится. Поэтому дело наше конченное, обречённое. И я отказался от напрасного подвига.
Меня больше интересовали общие настроения народа. Я не в территориальные успехи верил, а в народ: если бы он повернулся стихийно, тогда иное дело! Как же он чувствовал? И что мы давали ему?
Всего легче это можно и нужно было бы видеть из трёх деклараций, которые обыкновенно пускались среди народа пришедшею властью.
Как Деникин, так и Врангель выпустили такое обращение: «ЗА ЧТО МЫ ВОЮЕМ?» Оно было краткое, строчек в двадцать. Не помню сейчас, что там говорилось вообще. Лишь два пункта запомнились. Первый о Вере, второй о Хозяине.
Как помнит читатель, генерал Деникин отклонил пункт «За Веру», чтоб быть искренним. Генерал Врангель снова вставил его. Не потому, чтобы он был более религиозен, чем тот, а потому, что этот пункт теперь казался и более патриотическим, и отличал белых от красных безбожников, и более привлекал народ. А ещё была и одна случайная причина. Какими-то путями к генералу Врангелю прошёл один крестьянин Костромской губернии. Ему был показан проект обращения. Крестьянин сей удивился, что ни слова не сказано о вере, и дал совет непременно внести этот пункт. После этот крестьянин посетил и меня. Не он ли сам рассказал мне об этой подробности? Как сейчас помню его скромное лицо с русой бородой, серыми спокойными глазами, коричнево-серый пиджак и русский картуз. Симпатичный.
Но в декларации не сказано было о Православной вере, потому что в Крыму было много татар-магометан и других. Отразилось ли это обращение на массах? Не думаю. К этому пункту привыкли ещё в дореволюционное время и не обращали на него особого внимания.
Гораздо более тревожно встречен был другой пункт – «о Хозяине». Декларация по вопросу о будущем политическом строе стояла на «непредрешенческой» позиции. И генерал Врангель заявил, что этот пункт решит «Хозяин земли Русской». Но кто он такой? Сразу всякому бросалось в глаза, что тут, разумеется, царь. Да и слово «хозяин» печаталось с большой буквы. Откровенно сказать, я и сам думал так же точно. Дело в том, что тогда была у многих вера в Царя. Нам казалось: стоило лишь ему стать во главе - и все как-то волшебно устроится. Будто вся беда лишь оттого, что Царя нет. Таково уж было обаяние его за 300 лет. Но и вообще люди истосковались по единой сильной власти.
Нужно, впрочем, сказать, что Врангель всегда был шире и свободнее многих сотрудников своих, но разумел ли он в 1920 году под Хозяином царя, не могу сказать. Когда же неопределённое слово вызвало разнотолкования в обществе и армии, то он вынужден был дополнительно разъяснить в печати, что под Хозяином разумеется сам народ земли Русской. На этом и успокоились.
Я сам с печалью видел, что вокруг генерала Врангеля собрались бывшие высшие классы: министры, губернаторы, генералы, сенаторы,
аристократы, немного промышленников и членов Думы и... никто из крестьян и рабочих. И я прямо высказал свою печаль и опасение генералу Врангелю, а потом и Кривошеину. И быть же тому, что как раз после этого моего доклада премьер-министру входит его секретарь
Котляревский, ничего не знавший о содержании нашей беседы, и сообщает, что сейчас по радио передавалась агитационная речь Троцкого по этому же вопросу: «Всем, всем, всем! Кто собрался вокруг Врангеля? Графы, князья, помещики, генералы, нет народа», и т.д.
Нас всех поразило такое совпадение: белый архиерей и красный комиссар говорили одно и то же. Да, безусловно, нужно сознаться, что
«белое движение» было в конце концов движением классовым, а не всенародным (не рабоче-крестьянским). Я это говорю не для того, чтобы винить кого-нибудь, – историю винить легко, но не всегда это умно и справедливо, - а лишь чтобы объяснить процесс «белого движения» и отношение к нему со стороны народных масс.
Возьму теперь политико-экономическую сторону. О монархизме я уже говорил. В некоторых кругах была вера в Царя. И я сам считал
это признаком хорошего нравственного тона. Иногда даже и в проповедях упрекал «благочестивых» братьев и сестер, что они настолько
ещё слабы, что даже не смеют думать о восстановлении монархии, а не только говорить. У меня был свой печатный орган «Святая
Русь»: правительство оплачивало его издание, а редактором я назначил учёного священника о. Нила Малькова, годом моложе меня по Петербургской академии, а потом бывшего там профессором по апологетике. В этой газете мы с ним и начали пропускать иной раз статейки за Царя и монархизм. Как-то однажды я описал встречу мою в Крыму с бывшим министром юстиции, кажется, Добровольским, и высоким чиновником при Св. Синоде Строумовым. Оба уже беленькие старички, они сидели у меня тихо, мирно, деликатно. А я смотрел на них и умилялся - отмирающие осенние листья. Хорошие были люди. Жалко их было. Умирающие могикане - смиренные, послушные, почтительные, идейные, кроткие, о них я поделился своими впечатлениями в газете.
Через несколько дней меня вызывает по телефону главнокомандующий и довольно сурово приказывает, чтобы впредь не писать о монархии. Оказалось, когда наша газета попала на фронт, то среди белых инородцев поднялся сразу протест: «Опять назад, опять старый режим?» А красные тотчас же воспользовались нашим монархизмом и повели пропаганду против нас. Пришлось свои умиления сократить, а монархические статьи и совсем прекратить. Пробный шаг показал, что на монархизме играть положительно невозможно и даже опасно.
Какова же была наша политическая программа? Неизвестная! Сначала победить большевиков, а там сама страна решит этот вопрос. Значит, предполагалось нечто вроде Земского собора времен воцарения Михаила Федоровича Романова. Об Учредительном собрании говорить было нельзя. Это - революционный термин, а мы в общем правые, антиреволюционеры. И говорить за Марусю Спиридонову или Чернова с Керенским было дурным тоном, опасным делом - это всё сродни большевикам, против которых боролись белые.
Там, где восстанавливалась власть белых, тотчас же механически восстанавливалась и частная собственность, как старая хозяйственная
система, противоположная большевистской. Такое сравнение было не в пользу добровольцам. Но при генерале Деникине ещё неясно было,
в какую сторону склонится борьба? И потому народ держался осторожной позиции: при красных пользовался землей, при белых возвращал
её собственникам. Но когда Добровольческая армия была разбита на всех фронтах, и у белых остался лишь крымский клочок, когда ясно наметилась победа Советов, то волей-неволей пришлось думать о земельной реформе в радикальном смысле, чтобы соблазну большевистских даров противопоставить выгодные обещания со стороны белых. Генерал Врангель созвал для этого специальное совещание в Малом дворце. Кроме него были и другие военные. Между ними выделялся смелыми суждениями начальник штаба генерал Махров.
После, во Франции, он открыто печатно защищал Советскую армию и говорил о силе, технической оборудованности и дисциплине её.
Главным докладчиком был Глинка, бывший товарищ министра земледелия при А.Б.Кривошеине. Был и я, и ещё один адвокат, представитель Крестьянского союза. Начались длинные нудные обсуждения. Генералы Врангель и Махров настаивали на радикальной форме его разрешения, к ним присоединились и мы с адвокатом. Но милый и благочестивый старец Глинка упорно и методично восставал против этого. Его мотивы были такие: во-первых, «собственность священна», и Добровольческая армия, как стоящая на моральной основе, не может ступить на путь принудительной экспроприации и «чёрного передела»; во-вторых, насильное снятие собственности есть большевистский способ, а белые – противники их; в-третьих, будто и сам народ считает такой путь и греховным, и государственно беззаконным, и просто непрочным. Иное дело - приобретение этих земель в собственность за установленную
цену при лёгких условиях выплаты её. Говорилось даже, будто мужику нужна бумага на владение землею за печатью.
В результате остановились на последнем проекте как компромиссном. Заявлялось, что земля переходит во владение народа на правах
частной собственности, само государство выплачивает владельцам её стоимость, народ имеет дело уже не с частными собственниками, а с правительством. Владение закрепляется государственными актами.
Так мне вспоминается суть этой реформы. Закон о ней был быстро отпечатан и помещён по всей Тавриде.
Я немедленно поехал по северным хлеборобным уездам, чтобы узнать, как понял народ эту реформу. И воротившись, доложил Врангелю, что народ отнесся почти равнодушно. Никакого подъёма и движения я не увидел, И понятно: реформа была компромиссной и запоздалой. Будь она дана царём в 1903-1905 годах, когда в Думе, как я писал, обсуждался кутлеровский проект о принудительной передаче земли крестьянам, народ ухватился бы за неё обеими руками. А теперь, когда крестьяне фактически уже владели ею, когда помещики разбежались, когда советская власть утвердила землю за обрабатывающими её, теперь подобная реформа по существу своему не могла, конечно, вызвать восторга.
Ко всему этому нужно ещё прибавить великое сомнение народа в успехах последних остатков белых армий. А если так, то много ли стоили все наши обещания в глазах тех, кому мы дарили то, чем сами ещё не владели крепко? Всякому было понятно, что наши реформы больше отзываются пропагандой, чем государственным актом.
И какой мог быть подъём от нашей реформы? Когда же я прямо ставил этот вопрос селянам, то они сначала хмуро отмалчивались, а потом отделывались какими-нибудь неопределенными отзывами. Ясно, что земельная реформа наша провалилась. А скоро развалится и военный фронт.
Ни о каких других реформах я не помню, потому что их и не было, возвращались к старым привычным формам жизни - это было гораздо
легче, но бесплодней.
Припоминаю несколько фактов ещё из эпохи генерала Деникина. Как известно, болгары и тогда были с немцами. Однажды я в магазине
встретил болгарина офицера и говорю ему с откровенным упреком:
- Как же это вы, братушки-славяне, которых Россия освободила своей кровью от турецкого ига, теперь воюете против нас?
- Мы, - совершенно бесстыдно ответил мне по-болгарски упитанный офицер, - реальные политики!
- То есть где выгодно, там и служим.
Противно стало на душе от такого бессердечия и огрубелости!
При Врангеле, впрочем, была попытка организовать в Болгарии добровольческий отряд на помощь нам. Приезжали даже какие-то два
ходока - военный и священник. Посетили они и меня. Но так из этого ничего и не вышло. Да были ли за ними какие-нибудь массовые силы?
Немало тогда присасывалось авантюристов или просто увлекающихся людей. Однако пусть история знает, что какие-то единицы из
болгарского народа стыдились братоубийственного предательства. Известно, что митрополит Софийский Стефан протестовал против
участия болгар в первой войне на стороне немцев и вынужден был удалиться за границу, в Швейцарию, до окончания борьбы.
Не очень-то легко было Врангелю устанавливать дружественные соглашения и с домашними «иностранными» державами: с Всевеликим Войском Донским, с кубанскими и терскими казаками. Революционный центробежный откол частей бывшей единой империи изживался весьма трудно. Даже потеряв свои территории, атаманы, кроме прекрасного донского генерала Богаевского, всё ещё дышали ревностью по самостоятельности. Не сразу сговорились с ними. Наконец генерал Врангель по телефону попросил меня прибыть в Большой дворец и отслужить благодарственный молебен - столковались-таки! Где-то доселе хранится у меня фотография объединенных вождей. Точно где-нибудь среди индейских диких племён Америки!
Вот что значит революция! Легко разбить посуду, как трудно потом склеивать. И поймёшь теперь, почему националисты-добровольцы
боролись за «единую, великую, неделимую Россию». Это было здоровое течение в данном пункте. Потом и большевики пойдут по тому
же пути объединения ослабевших разболтавшихся частей одного организма.
Теперь мне нужно сказать еще о моральном и религиозном фронте врангелевского движения. Отчасти я уже говорил об этом. Не высока была и мораль: не белыми были, а серостью. Генерал старался по возможности подтягивать всех, и отчасти ему это удалось. Никаких оргий в тылу, о коих я писал прежде про деникинское время, уже не было. А если бы они завелись, то несомненно были бы подавлены Врангелем беспощадно. И здесь не может быть двух мнений, к чести главнокомандующего!
История должна сказать ему слово благодарности за это, как ещё и за другое, о чём скоро будет речь.
Что касается самой Церкви, то и мы не могли сделать ничего особенного в пользу победы над красными, хотя мы и желали этого.
Авторитет Церкви вообще был слабый. Необходимо сознаться в этом. Голос наш дальше храмовых проповедей не слышался. Да и всё
движение добровольцев было, как говорилось, патриотическим, а не религиозным. Церковь, архиереи, попы, службы, молебны - все это для белых было лишь частью прошлой истории России, прошлого старого быта, неизжитой традиции и знаком антибольшевизма, протестом против безбожного интернационализма. А горения не было ни в мирянах, ни даже в нас, духовных. Мы не вели историю, а плелись за ней, как многие иные, потому не имеем никаких оснований жаловаться на паству, по пословице: «Каков поп, таков и приход» и наоборот.
Желая придать больший авторитет Церкви и нашему Синоду, генерал Врангель «выписал» с Афона митрополита Киевского, известного Антония (Храповицкого). Был с нами и митрополит Платон Одесский, потом уехавший в Болгарию, а оттуда вторично в Америку, и архиепископ Полтавский Феофан, и Таврический епископ Димитрий, и др. Среди членов Синода от духовенства и мирян были члены Московского собора 1917-1918 годов; известный профессор С.Н.Булгаков (бывший марксист, теперь протоиерей), граф Н.Н. Апраксин, о коем я упоминал раньше. Все люди учёные, будто бы умные. Но почти бессильные. Ни гермогенов, ни палицыных среди нас не оказалось. И выписка митрополита Антония ничуть не помогла делу. Да, мы оказались бряцающим кимвалом, которого никто почти не слышал. Нечего нам сваливать вину лишь на других.
Впрочем, за шесть месяцев правления Врангеля можно отметить несколько отдельных эпизодов или попыток Церкви тоже сделать что-
нибудь внушительное, особое для поднятия духа.
Прежде всего выписали Курскую чудотворную икону Божией Матери. И с ней приехал епископ Полтавский Феофан в сопровождении монахов, прекрасных певцов. Когда пароход прибыл в Севастополь, то навстречу иконе вышел чуть ли не весь город, человек около семисот тысяч, преимущественно рабочие люди. Подъём был необычайный! За три года революции люди намучались и хотели чуда. Вышел навстречу генерал Врангель с Кривошеиным. Что у них было на душе, не знаю. Вероятно, не горели, не знали, собственно, что полагается в подобных случаях делать. Я тихо подсказываю генералу: «А вы бы взяли и тоже понесли икону!»
Он смиренно повиновался, с Кривошеиным взяли её и несли в необыкновенной толчее народной массы. Сначала её принесли к нему в
Большой дворец - он же был у нас почти как царь. Тут встретил икону генерал Шатилов и другие. Почти все поклонились иконе. Многие до земли, а Паша не смирился, лишь сделал несколько спешных крестов. А он был ближайший друг генерала.
Потом начались службы по всем храмам. Это были дни торжества и религиозного подъёма. Затем икону повезли в Ялту и другие города. Народ массами встречал её везде. Была старая Русь! Затем я один повёз её на фронт в отдельном вагоне. Первым встретил меня генерал Туркул с конвоем. Был парад и молебен, стояли шпалерами войска в какой-то деревне на площади. Что было на душе у военных вождей, опять не знаю. Признаюсь: не очень я верил в их ревность по вере. Помню, как в Александровске при крестном ходе (о чём я говорил раньше) в штабе стояли офицеры за окном и небрежно курили, смотря на процессию с абсолютным равнодушием, думали, что их никто снаружи не замечает. А я отлично видел. Так и здесь: не знаю, не знаю... Кажется, что это больше делалось для того, чтобы поднять дух в солдатах, среди которых теперь были уже и мобилизованные селяки, и даже пленные красноармейцы. Дай Бог, чтобы я ошибся, но, кажется, было именно так.
Вторым важным событием были так называемые дни покаяния. По постановлению нашего Синода на 12-14 сентября (старого стиля) было назначено всеобщее покаяние в грехах. Там среди разных наших грехов поминалось и об убийстве царской семьи с невинными детьми. Эти три дня в городе Севастополе денно и нощно (например, во Владимирском соборе на горе) шли богослужения и исповеди. А на праздник Воздвижения Креста Господня причащались. Настроение было молитвенно покаянным. Но к концу этих дней я получил от какого-то ревнителя благочестия жалобное письмо: «Владыка, где же наше начальство? Почему никого из них не видно в храмах? Неужели лишь рабочим нужно каяться, а не им?»
И дальше в том же роде.
Я потом передал содержание письма Врангелю, да ещё кажется и при жене. Он ответил нам: «Владыка! Мы тоже верующие. Но у нас иное было воспитание в семьях и школах, мы не афишировали нашей религиозности, даже стеснялись показывать ее. Нас тоже можно понять, да и дел масса».
Тут есть правда. Сам генерал - я это знаю - исповедовался и причащался. Не могу забыть и тех трёх крестов его, какими он молился перед принятием главного командования.
В заключение характеристики «врангелевской эпопеи», как выражались некоторые о его времени, я хочу пожаловаться на общую духовную бедность нашу. У НАС ПОЧТИ НЕ БЫЛО РУКОВОДЯЩИХ ИДЕЙ, как не было их, конечно, и при Деникине.
Можно не соглашаться с большевиками и бороться против них, но нельзя отказать им в колоссальном размере идей политико-экономического и социального характера. Правда, они готовились к этому десятилетия. А что же мы все (и я, конечно, в том числе) могли противопоставить им со своей стороны? Старые привычки? Реставрацию изжитого петербургского периода русской истории и восстановление «священной собственности», Учредительное собрание или Земский собор, который каким-то чудом всё-всё разъяснит и устроит? Нет, мы были глубоко бедны идейно. И как же при такой серости мы могли надеяться на какой-то подвиг масс, который мог бы увлечь их за нами? Чем? Я думаю, что здесь лежала одна из главнейших причин провала всего «белого движения» - его безыдейность! Наша бездумность! Если бы мы глубоко всмотрелись в исторический процесс, изучили его, поняли - тогда?.. Тогда, вероятно, мы просто отказались бы от этого анти-исторического движения на него. Но мы не хотели думать, не могли думать: шли по инстинкту, по привычке, ощупью.
Между тем среди общества времён Врангеля были не одни эти «думные думцы», а и другие. Например, через меня к нему прошло
несколько проектов о спасении России. У меня даже была особая папка с ироническим (и я был подобен своей среде) названием
«Спасители». Помню, один инженер или агроном доказывал в огромном докладе (смешно даже писать), что весь секрет в постройке
множества элеваторов. Или мы уж тогда начинали с ума сходить? Другой «спаситель», простой рабочий с Корабельной стороны, написал с грамматическими ошибками большущий устав о социалистическом переустройстве общества и верноподданнически преподнёс его через
меня вождю антисоциалистического движения Врангелю. Между прочим, хорошо помню, что в этом проекте предполагалось даже особое расписание пищи, и непременно с бутылкой хорошего кваса на человека. Я не шучу. Третий убеждал надеяться на чудо! Сказано же в
Евангелии, что если будешь иметь веру с зерно, то и гору можешь сдвинуть. Но в общем все мы очень мало думали про глубины исторического движения. Не думал и лично Врангель. И потому один из офицеров сказал мне про него однажды:
- Нет, и Врангель не сокол и не жених России! А мы не были даже дружками его... Беднота!
Хотя я и сам не знал несомненного выхода, но всё это беспокоило меня и побудило написать доклад премьер-министру Кривошеину. В нём я охарактеризовал общее положение наше с точки зрения религиозной, моральной и народной. И пришёл к выводам, что по всем этим пунктам мы не стоим на должной высоте. Народ не считает нас своими. Далее я спрашивал: можем ли мы измениться? Опыт трёх лет борьбы показывает - нет!
Освобождённая от борьбы с Польшей Красная армия надвинулась на нас с северо-запада, около днепропетровского села Каховки, и
с севера. Белые вынуждены были отступать, несмотря на всю храбрость свою.
В тыл прошли слухи, что на фронте неладно. Архиереи, члены Синода, полушутя, но со страхом говорят мне:
- Пойди узнай у своего Врангеля: каково военное положение?
Я пошёл. Генерал ходил по кабинету Большого дворца. Спрашиваю.
- Отлично! Только чудо может помочь большевикам. Перекоп и Джанкой неприступны!
Возвращаюсь к архиереям, утешаю их: все прекрасно! Они благодушно разъезжаются опять по монастырям, где жили.
Проходит ещё месяц. Слухи все ухудшаются. И тут вдруг в октябре наступили небывалые на юге морозы. Наша армия не была подготовлена к ним. И пришли известия, что мы отступаем над натиском красных, которыми командовал Фрунзе.
Синод снова собирается.
- Пойди спроси у Врангеля!
Иду... Ходит нервно, но сдержанно.
- Каково положение?
- Конец! Только чудо может помочь нам! - кратко отвечает генерал.
- Как же вы недавно говорили, что чудо может помочь большевикам?
- Ну, что же? Разве я буду открывать всем карты? Положение безнадёжное, силы неравны. Я ожидал этого с самого начала, как помните. Теперь остается надеяться лишь на чудо. Ну, а достойны ли мы чуда, это, владыка, вам, как архиерею, лучше полагается знать, чем мне, - с ласковой шуткой сказал он. - Нужно укладываться для немедленной эвакуации, у меня уже всё заранее подготовлено. Так и скажите владыкам.
Я сказал... Переполох.. Недовольство Врангелем! А в сущности, чем он виноват? Ничем. Лишь один архиепископ Феофан Полтавский
улыбался загадочно. Он чтил одну больную старицу в Ялте, О., вдову священника, как прозорливую. И она предсказала ему и другим, что бежать из Крыма не придётся. Двум молодым юношам, сыновьям князя Т. и С. Н. Б., предсказывала, что они даже увидят златоглавый Кремль. И они бесстрашно лезли на врагов. Но князь Т. был убит в первом же сражении за Перекоп. Искали мы среди трупов и сына С. Н. Б., но не нашли. Оказалось, что он был взят в плен и после возвратился к родителям в Кореиз, недалеко от Ялты. Архиепископ Феофан ещё верил в предсказания.
Скептически настроенный к разным ясновидящим, митрополит Антоний сказал: «Ну, если пророчица окажется права, пойду пешком (30
вёрст от Севастополя) в Ялту и поклонюсь в ноги ей!»
Увы! Идти не пришлось. А архиепископу Феофану я всё же посоветовал тоже готовиться к отъезду. И он чуть не в последний час сложился и уехал на пароход с другими архиереями.
Перед концом генерал Врангель созвал высших своих сотрудников, министров, генералов, а также и митрополита Антония со мной. Спокойным твёрдым тоном он сказал коротенькую речь, которую начал словами: «И для героев есть предел!»
И объявил, что всё кончено. Пароходы для армии и граждан, желающих эвакуироваться, готовы, о чём он еще с июля благоразумно дал соответствующие приказания.
Эвакуация была проведена очень хорошо, за исключением лишь Феодосии, и то по вине воинских частей.
У нас в Севастополе эвакуация прошла безукоризненно. Рассказывали, что, отходя на свой небольшой пароход «Лукулл», генерал
Врангель, прощаясь на пустой Графской пристани с остававшимися, спросил, нет ли ещё желающих... Ответом ему были слёзы и
молчание.
Когда я садился на катер, присланный за мною с броненосца «Алексеев», справа пылал огромный четырёх-пятиэтажный дом со
складами американской помощи, подожжённый хозяином, чтобы не оставлять добра большевикам. А налево, в открытом море, высился
и играл огнями броненосец, к которому прыгал по волнам мой катер.
Дул свежий ветер. Но небо было, помнится, чистое. Меня подняли на судно, потом на блоках втащили и катер. Я уходил с Родины, невесть куда.
На другое утро было лишь серо-зелёное безбрежное море и серое облачное небо. Было серо и на душе...
На палубе мне бросилась в глаза следующая картина. Какая-то красивая полная дама водила прогуливать свою собачку. Прошедший
мимо матрос злобно посмотрел на эту прихоть и хотел отшвырнуть болонку ногой. Но дама подняла скандал. А я подумал: неужели и ради таких вот добровольцы проливали свою кровь? Не стоила она этого! Не любит она ни народа, никого и ничего, кроме себя самой и своих прихотей...
Митрополит Вениамин (в миру Иван Афанасьевич Федченков) родился в 1880 году. Из крестьян. Окончил в 1903 Тамбовскую
духовную семинарию, направлен в Санкт-Петербургскую духовную академию. Принял иноческий постриг в 1907, был оставлен при кафедре библейской истории.
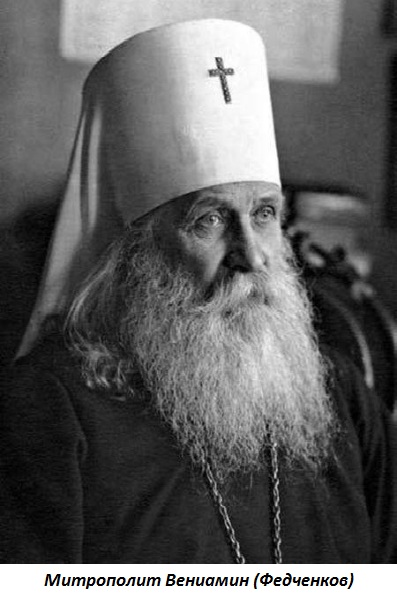
В 1910–1911 - секретарь при архиепископе Финляндском Сергии (Старгородском). В 1911 возведён в сан архимандрита и назначен ректором Симферопольской духовной семинарии. В 1913-1917 - ректор Тверской духовной семинарии.
Член Поместного собора Русской Православной церкви 1917-1918. Одновременно участник Украинского Собора, отстаивал единство церкви перед лицом «самостийников». В 1919 - епископ Севастопольский. Примкнул к Белому движению, возглавил военное духовенство армии П.Н.Врангеля. В ноябре 1920 вместе с войсками уехал в Константинополь. В 1922 поселился в сербском монастыре в Петковице.
В 1923-1925 - викарный архиерей в Карпатской Руси (Чехословакия). Выслан за активную пропаганду Православия, вернулся в Сербию. В 1924-1925 годах в Петковице возглавлял пастырско-богословские курсы, был настоятелем Русского прихода. Не желая порывать связь с Родиной, принял решение о подчинении митрополиту Сергию (Старгородскому). Когда в Париже был основан Православный богословский институт имени преподобного Сергия Радонежского, стал его инспектором. В 1930-м году произошёл разрыв управляющего Православными приходами в Западной Европе митрополита Евлогия с Московской патриархией, оставил институт, основал первый приход Московской патриархии в Париже. В 1933 отправился с циклом лекций в США, где стал временным
американским экзархом, архиепископом Алеутским и Североамериканским. За 14 лет служения в Америке удостоен сана митрополита, создал 50 приходов. В годы Великой Отечественной войны избран почётным председателем Русско-американского комитета помощи. Организовал в США сбор средств для Красной Армии. В 1945 участвовал в Поместном соборе РПЦ. В 1947 возвратился в СССР, был назначен
на Рижскую кафедру. В 1951–1955 управлял Ростовской епархией. Затем стал митрополитом Саратовским и Вольским. В 1958 ушёл на по
кой и поселился в Псково-Печерском монастыре, где и почил в 1961 году.
Оглавление №57
|